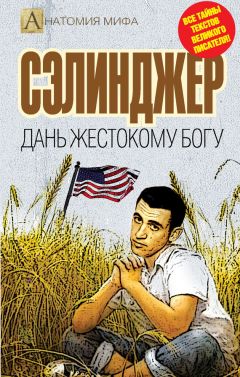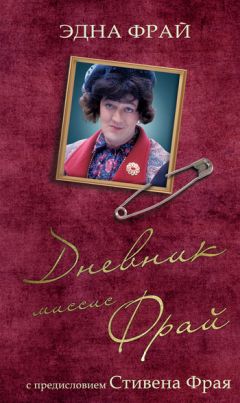— Она говорит, что она любит вот этого мальчика, потому что ей нравится, как он стоит в классе у доски.
— Правда? — Черный Чарльз высвободил голову из-под крышки рояля. — Спой ребятишкам что-нибудь, Лида-Луиза.
— Ладно. Какую песню они любят?.. Кто, интересно, стянул мои сигареты? Они все время лежали возле меня.
— Ты слишком много куришь. Ни в чем меры не знаешь. Пой лучше, — сказал ей дядя. Он уже сидел за роялем. — Спой им «Никто меня не любит».
— Эта песня не для детей.
— Эти дети любят такие песни.
— Тогда ладно, — сказала Лида-Луиза. Она поднялась и стала у рояля сбоку. Она была высокого роста. Радфорд и Пегги уже сидели на полу, им пришлось сильно задрать головы.
— Какой ключ тебе?
Лида-Луиза пожала плечами.
— Да любой, все равно, — сказала она и подмигнула детям. — Зеленый будет лучше всего, подойдет к моим туфлям.
Черный Чарльз взял аккорд, и голос его племянницы влился в него, проскользнув между нот. Она пела «Никто меня не любит». Когда она кончила, у Радфорда по спине бегали мурашки. Кулак Пегги оказался в кармане его куртки. Он не почувствовал, как она его туда засунула, и не стал говорить, чтоб она его вынула.
Теперь, годы спустя, Радфорд, сбиваясь, все старался мне втолковать, что голос Лиды-Луизы описать невозможно, пока я не сказал ему, что у меня есть почти все ее пластинки и я сам это знаю. Но, между прочим, сделать попытку, пожалуй, все-таки стоит.
Голос у Лиды-Луизы был сильный и мягкий. На каждой ноте она по-своему чуть детонировала. Она нежно и ласково раздирала вам душу. Говоря, что голос Лиды-Луизы невозможно описать, Радфорд, вероятно, имел в виду, что его ни с чем нельзя сопоставить. И в этом он прав.
Покончив с «Никто меня не любит», Лида-Луиза нагнулась и подобрала сигареты, валявшиеся под стулом, на котором сидел ее дядя.
— Ах вот вы где были, — сказала она и закурила.
Дети глядели на нее как завороженные.
Черный Чарльз встал.
— А у меня есть холодная грудинка, — провозгласил он. — Кому принести кусочек?
На рождественской неделе Лида-Луиза начала петь по вечерам в кафе своего дяди. В понедельник вечером Радфорд и Пегги оба отпросились из дому — в школу, на лекцию по гигиене. Так что они присутствовали при ее первом выступлении. Черный Чарльз усадил их за крайний столик у самого рояля и поставил перед ними по бутылке ягодной воды, но они оба от волнения не могли пить. Пегги нервно постукивала зубами по краю горлышка своей бутылки, а Радфорд до своей бутылки даже не дотронулся. Публика — а там собралась молодежь, съехавшиеся на каникулы студенты — нашла, что «детишки просто прелесть». Все обращали на них внимание, друг другу на них показывали. Часов в девять, когда народу набилось полно. Черный Чарльз вдруг встал из-за рояля и поднял руку. Жест этот, однако, не возымел действия на веселую, празднично гомонящую публику, и тут Пегги, никогда не отличавшаяся особой изысканностью манер, обернулась и пронзительно крикнула: «Тише вы там!», после чего за столиками наконец угомонились. Чарльз особенно не распространялся.
— У меня гостит дочка сестры, Лида-Луиза, — объявил он, — и она сейчас для вас споет.
После этого он сел, а Лида-Луиза вышла в своем желтом платье и встала возле рояля. Публика вежливо похлопала, явно не ожидая ничего особенного. Лида-Луиза наклонилась к столику Радфорда и Пегги, щелкнула пальцами у Радфорда над ухом и спросила: «Никто меня не любит»? И они оба ответили: «Да!»
Лида-Луиза спела эту песню, и все словно вверх дном перевернулось. Пегги так плакала, что, когда Радфорд спросил ее, что с ней, и она сквозь всхлипывания ответила: «Не знаю», он вдруг ни с того ни с сего сказал ей, тоже сам не свой от волнения: «Я тебя очень люблю, Пегги!» — и тогда она так разрыдалась, что пришлось ему отвести ее домой.
Наверное, с полгода выступала Лида-Луиза по вечерам в кафе у Черного Чарльза. Но в конце концов, конечно же, ее услышал Люис Хэролд Медоуз и увез к себе в Мемфис. Она поехала, хотя что-то не заметно было, чтобы ее особенно волновали открывшиеся ей «блестящие возможности». Но поехать поехала. По мнению Радфорда, она просто думала отыскать кого-то или хотела, чтобы кто-то отыскал ее. Мне это представляется вполне правдоподобным.
Но пока Эйджерсбург не потерял ее, местная молодежь ее превозносила и боготворила. Почти все понимали ей цену, а те, кто не понимал, притворялись, будто понимают. По субботам в городок привозили знакомых поглядеть на нее. Те, кто пописывал для институтских газет, воспевали ее в красноречивой прозе. А если в общежитиях кто-нибудь упоминал в разговоре Вайолет Хенри, или Элис Мэй Старбек, или Присциллу Джордан, которые тоже пели блюзы и служили предметом поклонения молодежи в Гарлеме, Новом Орлеане или Чикаго, на этих бедняг смотрели презрительно, свысока. Раз в вашем городе нет Лиды-Луизы, то и говорить с вами не о чем. Да и сами-то вы не многого стоите.
В ответ на всю эту любовь и поклонение Лида-Луиза держалась очень, очень хорошо с эйджерсбургскими ребятами. Что бы и сколько бы раз подряд ни просили они ее петь, она чуть улыбалась и говорила: «Славный мотив» — и пела.
В один знаменательный субботний вечера какой-то тип в смокинге — говорили, что он студент из Йеля, — вышел, красуясь, прямо к роялю и спросил у Лиды-Луизы:
— Вы случайно не знаете «Почтовый до Джексонвилля»?
Лида-Луиза быстро взглянула на него, потом поглядела внимательнее и спросила в ответ:
— А вы где слыхали эту песню, молодой человек?
— Мне ее играл один парень в Нью-Йорке.
— Цветной? — спросила Лида-Луиза.
Студент нетерпеливо кивнул.
— Не Эндикотт Уилсон, не знаете?
— Не знаю я. Небольшого роста. С усиками.
Лида-Луиза кивнула.
— Он в Нью-Йорке сейчас? — спросила она.
— Почем я знаю, где он сейчас. Наверно, там… Так что ж, споете, если вы ее знаете?
Лида-Луиза кивнула и сама уселась за рояль. Она сыграла им и спела «Почтовый до Джексонвилля».
По словам тех, кто ее тогда слышал, это была очень хорошая песня, по крайней мере с оригинальной мелодией. О незадачливом парне, у которого на воротничке сорочки следы губной помады. Она пропела ее тогда до конца и больше, насколько знал Радфорд и насколько знаю я, не пела никогда. И записана эта песня, если я не ошибаюсь, тоже не была.
Тут мы немного углубимся в историю джаза. Лида-Луиза пела в знаменитом Джазовом центре Люиса Хэролда Медоуза на Бийл-стрит в Мемфисе неполных четыре месяца. (Начала в конце мая 1927 года и пела до сентября того же года.) Но это как считать: не во времени дело, а в человеке. Лида-Луиза и двух недель не пропела на Бийл-стрит, как уже публика стала выстраиваться на улице в очереди за час до начала ее выступления. Компании, выпускающие граммофонные пластинки, стали осаждать ее почти с самого начала. За первый месяц выступлений на Бийл-стрит она еще и напела девять пластинок, в том числе «Город улыбок», «Смуглую девчонку», «Парнишку под дождем», «Никто меня не любит» и «Словно в доме родном».
Все, кто имел хоть какое-то отношение к джазу — то есть к настоящему джазу, — приезжали ее послушать, пока она там выступала. Рассел Хойтон, Джон Рэймонд Джуел, Иззи Фелд, Луи Армстронг, Мач Мак-Нийл, Фредди Дженкс, Джек Тигарден, Берни и Морти Голд, Вилли Фукс, Гудмен, Бейдербекк, Джонсон, Эрл Слейгл — одним словом, все.
Однажды в субботу вечером к Медоузу подкатил большой седан из Чикаго. Среди тех, кто вылез из машины, были Джо и Сонни Вариони. Остальные все, кто был с ними, назавтра утром уехали, а они остались. Они просидели двое суток в гостинице «Пибоди», сочиняя песню. И перед тем, как вернуться в Чикаго, подарили Лиде-Луизе «Малютку Пегги». Это была песня о сентиментальной девочке, которая влюблена в мальчика, стоящего в классе у доски. (Теперь «Малютку Пегги» в исполнении Лиды-Луизы не купишь ни за какие деньги. Там на обороте была запись с изъяном, и компания выпустила всего несколько пластинок.)
Никто не знал наверняка, почему Лида-Луиза ушла от Медоуза и уехала из Мемфиса. Радфорд и кое-кто еще не без основания полагали, что ее отъезд стоял в некоторой, а быть может, и в прямой связи с одним происшествием на углу Бийл-стрит.
В тот день, когда Лида-Луиза ушла от Медоуза, ее видели часов в двенадцать на улице разговаривающей с хорошо одетым цветным джентльменом небольшого роста. Кто бы он ни был, но Лида-Луиза вдруг со всего размаха ударила его сумочкой по лицу. Потом вбежала в ресторан Медоуза, прошмыгнула между официантами и оркестрантами и захлопнула за собою дверь своей уборной. Спустя час она уже собралась и была готова к отъезду.
Она возвратилась в Эйджерсбург. Она не привезла с собою новых шелковых туалетов, не переехала с матерью на новую большую квартиру. Просто возвратилась назад.
В день своего приезда она написала Радфорду и Пегги записку. Вероятно, по наущению Черного Чарльза — который, как и все в Эйджерсбурге, побаивался Радфордова отца — она послала ее на адрес Пегги. Там было написано:
![Джером Дэвид Сэлинджер - Ранние рассказы [1940-1948]](https://cdn.my-library.info/books/126997/126997.jpg)